ДЖАНГО:
романтика рока
романтика рока
8 сентября 2016
Музыкальные вкусы
Группа «Джанго» стала известна саратовцам два года назад после своего выступления в театре оперы и балета в рамках Собиновского фестиваля. В этот раз слушатели могли насладиться любимыми композициями в арт-клубе «Черчилль». Музыканты играли в новом составе, теперь их четверо вместо шести: композитор, вокалист и автор песен Алексей Поддубный (Джанго), гитарист Игорь Лазарев, басист Олег Тищенко, ударник Михаил Процай. С будущими участниками лидер группы познакомился во время своего визита в Донбасс. В результате этой встречи родилась идея объединиться: теперь музыканты гастролируют вместе. В интервью журналу «СГУщёнка» они рассказали о формуле идеальной песни, отношении к русской культуре и о своём мироощущении.
«Виноград мне нельзя, а банан можно. Кто-то мне сказал, что его нельзя есть перед тем, как петь. Якобы он там что-то вяжет», – между делом говорит лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный и садится рядом с другими музыкантами. «Начнём?».
Гримёрка клуба «Черчилль» тесновата для четвёрки музыкантов, журналиста и фотографа. Развернуться и взять объёмный кадр не представляется возможным. Зато беседа на таком маленьком расстоянии завязывается сразу.
– Сначала немного простодушный вопрос: что означает название вашей группы – «Джанго»?
В одном из своих интервью лидер группы говорил о том, что ему никогда не задавали глупых вопросов. Их вообще для него не существует, есть только глупые ответы. А, отвечая несколько раз на один и тот же очевидный вопрос, открываешь для себя его неочевидные смыслы, проводишь невидимые раннее параллели. Поэтому Алексей улыбается и терпеливо отвечает.
– Это лунная кличка одного моего товарища.
– Музыканта, верно?
– Да, лунного музыканта. Был такой Джанго Рейнхардт – гитарист. Меня, кстати, сегодня удивил саратовский водитель такси. Он узнал, кто мы, и тут же спросил: «Так вы лучше, чем Джанго играете или хуже?». Я удивлённо: «Рейнхардта?». Он: «Ну конечно». Простой саратовский таксист! Поразительно.
– А логотип группы? Что он значит? – перебарщиваю с простыми вопросами я.
– Он есть, но никто за него особо не цепляется. Восьмилучёвая звезда – очень многозначная вещь. Во-первых, это символ солнца. У меня даже был такой медальончик, сейчас я его перестал надевать, он перуанский – то же самое означает. Сюда же относится и Вифлеемская звезда. В нашем логотипе много смыслов, каждый волен считывать то, что ближе ему.
– Что вам нравилось слушать пятнадцать лет назад, и что привлекает сейчас? Поменялись ли ваши музыкальные вкусы?
– Пятнадцать лет назад мне нравилось слушать музыку, а сейчас уже нет, – усмехается Алексей.
– Сейчас нравится её делать?
– Нет, мне нравилось её делать тогда. Теперь я слушаю только что-то из классики. Меня интересует фортепианная музыка. Это, в первую очередь Шопен. Также оперные композиции. Джакомо Пуччини, например. Современную музыку я давно не слушаю. Ребята что-то привозят, но я не помню имена. Есть много интересных исполнителей.
– Вы можете идти по улице и слушать мелодии в наушниках?
– Нет. Для меня музыка как фон не существует в принципе.
Сегодня у музыкантов был плотный график: интервью на радио, потом запись для телевидения, перед самим концертом внимание уделили и нам, прессе. Участники группы настроены на общение, за пределами камер и диктофонов они могут позволить себе немного больше: пофилософствовать, поделиться частными историями.
Гримёрка клуба «Черчилль» тесновата для четвёрки музыкантов, журналиста и фотографа. Развернуться и взять объёмный кадр не представляется возможным. Зато беседа на таком маленьком расстоянии завязывается сразу.
– Сначала немного простодушный вопрос: что означает название вашей группы – «Джанго»?
В одном из своих интервью лидер группы говорил о том, что ему никогда не задавали глупых вопросов. Их вообще для него не существует, есть только глупые ответы. А, отвечая несколько раз на один и тот же очевидный вопрос, открываешь для себя его неочевидные смыслы, проводишь невидимые раннее параллели. Поэтому Алексей улыбается и терпеливо отвечает.
– Это лунная кличка одного моего товарища.
– Музыканта, верно?
– Да, лунного музыканта. Был такой Джанго Рейнхардт – гитарист. Меня, кстати, сегодня удивил саратовский водитель такси. Он узнал, кто мы, и тут же спросил: «Так вы лучше, чем Джанго играете или хуже?». Я удивлённо: «Рейнхардта?». Он: «Ну конечно». Простой саратовский таксист! Поразительно.
– А логотип группы? Что он значит? – перебарщиваю с простыми вопросами я.
– Он есть, но никто за него особо не цепляется. Восьмилучёвая звезда – очень многозначная вещь. Во-первых, это символ солнца. У меня даже был такой медальончик, сейчас я его перестал надевать, он перуанский – то же самое означает. Сюда же относится и Вифлеемская звезда. В нашем логотипе много смыслов, каждый волен считывать то, что ближе ему.
– Что вам нравилось слушать пятнадцать лет назад, и что привлекает сейчас? Поменялись ли ваши музыкальные вкусы?
– Пятнадцать лет назад мне нравилось слушать музыку, а сейчас уже нет, – усмехается Алексей.
– Сейчас нравится её делать?
– Нет, мне нравилось её делать тогда. Теперь я слушаю только что-то из классики. Меня интересует фортепианная музыка. Это, в первую очередь Шопен. Также оперные композиции. Джакомо Пуччини, например. Современную музыку я давно не слушаю. Ребята что-то привозят, но я не помню имена. Есть много интересных исполнителей.
– Вы можете идти по улице и слушать мелодии в наушниках?
– Нет. Для меня музыка как фон не существует в принципе.
Сегодня у музыкантов был плотный график: интервью на радио, потом запись для телевидения, перед самим концертом внимание уделили и нам, прессе. Участники группы настроены на общение, за пределами камер и диктофонов они могут позволить себе немного больше: пофилософствовать, поделиться частными историями.
– Есть ли в вашем репертуаре такая песня, которая бы олицетворяла ваше состояние, настроение, мысли на данный момент?
– Для меня это песня «Снег», – сразу же ответил Алексей. – Она ближе мне по тому, что я ощущаю сейчас. Вопросы, которые я задавал себе последнее время – они там, в этой песне. Хотя есть и другие композиции, которые сейчас для меня актуальны в плане задаваемых вопросов.
– Вечных?
– Да. Кто я такой? Куда иду? Зачем живу?
– Наверное, вся лирическая музыка именно об этом.
– Вся лирика в основном о страданиях по противоположному полу, и нет других вариантов, честно вам скажу, – смеётся Алексей. – Если ты в поп-музыке не поёшь об этом, то о чём? Но есть, конечно, уникальные отклонения. Та же группа «Ленинград». Страшно популярная, невероятно зарабатывающая. Но вместе с тем торгующая другими «ценностями». Хотя это, мне кажется, даже интереснее, чем всё время стонать о неразделённой любви.
– Для меня это песня «Снег», – сразу же ответил Алексей. – Она ближе мне по тому, что я ощущаю сейчас. Вопросы, которые я задавал себе последнее время – они там, в этой песне. Хотя есть и другие композиции, которые сейчас для меня актуальны в плане задаваемых вопросов.
– Вечных?
– Да. Кто я такой? Куда иду? Зачем живу?
– Наверное, вся лирическая музыка именно об этом.
– Вся лирика в основном о страданиях по противоположному полу, и нет других вариантов, честно вам скажу, – смеётся Алексей. – Если ты в поп-музыке не поёшь об этом, то о чём? Но есть, конечно, уникальные отклонения. Та же группа «Ленинград». Страшно популярная, невероятно зарабатывающая. Но вместе с тем торгующая другими «ценностями». Хотя это, мне кажется, даже интереснее, чем всё время стонать о неразделённой любви.
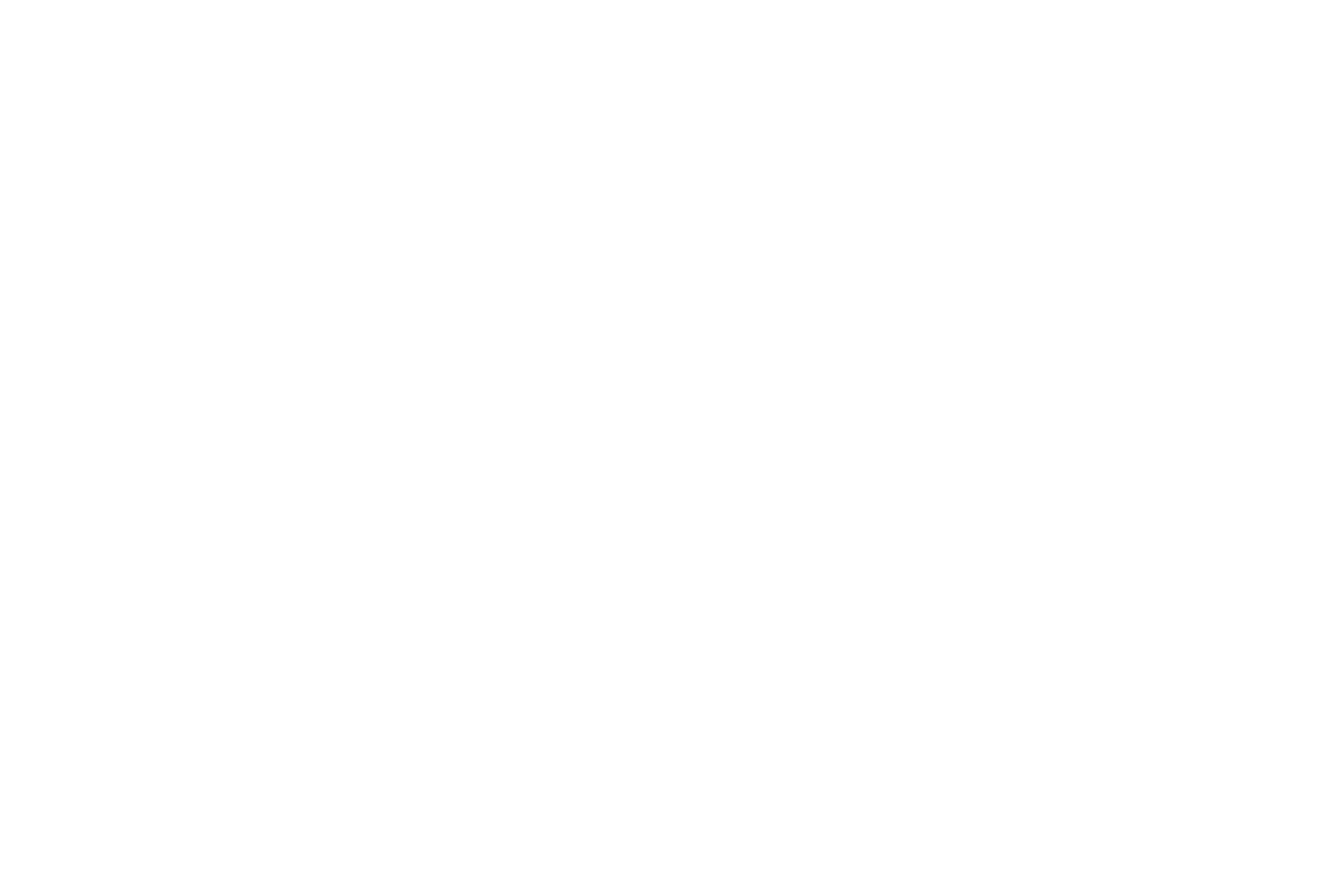
Саратовские ощущения
– Вы в Саратове не первый раз. Какие остались впечатления о городе, зрителях, концерте в рамках Собиновского фестиваля?
– Если набивается полный зал оперного театра, чтобы послушать классическую музыку, то это уже о многом говорит. Это значит, что для саратовцев важна культурная составляющая. Им интересно что-то ещё, помимо еды, развлечений и «Дома-2». То есть человек не может без этого, он чувствует потребность в том, чтобы развиваться, приобщаться к возвышенному. Какой-то духовный голод существует, и это прекрасно.
– Вы выступаете в самых разных городах. Отличаются ли друг от друга ваши зрители?
– Конечно. Но это неуловимое ощущение, нельзя его внятно сформулировать, назвать одним термином. Одни более отвязные, другие сдержанные. Публика, больше остальных дающая эмоциям волю, – это москвичи. Сам город такой, его атмосфера. Но время меняется, а вместе с ним и зрители. В Донецке и Луганске мы выступали задолго до гражданской войны, десять лет назад. В то время я видел, конечно, совершенно другую реакцию, нежели сейчас. Это был очень сдержанный город. Никто особо не эмоционировал, как говорят актёры. А сейчас там живут другие люди, гиперэмоциональные. Может быть, ребята со мной не согласятся, я всё-таки в Донецке не живу, но наблюдаю все процессы со стороны. А они живут именно там, видят изнанку происходящего.
При общении с журналистами музыканты «Джанго» часто говорят о событиях, происходящих в Украине, у них много так называемых «политических интервью». «Это то, что волнует нас», – в середине нашего общения признался гитарист Игорь Лазарев. Я же снова возвращаю участников группы к теме творчества.
– У вас интересные размышления об идеальной песне. Расскажите немного подробнее.
Активнее всего отвечает лидер «Джанго» Алексей Поддубный, трое музыкантов в основном соглашаются с его словами. У группы есть своя определённая философия, которая прослеживается от интервью к интервью. Алексей, как основатель коллектива, выражает общие мысли.
– Я вам назову несколько идеальных песен. «Священная война» – самый яркий пример. Она выполняла ту роль, которую на неё возложили: поднять дух людей, утвердить их в своей правоте.
– И сейчас выполняет эту функцию, – подключается к разговору Игорь.
– Да. И почему она идеальная? Потому что будет «работать» всегда. Вне времени. Песня была написана давно, но в любой момент она может быть актуальна, – продолжает Алексей.
– Идеальное сочетание музыки и текста? – предполагаю я.
– Эта песня действует уже на генном уровне, она вшита в подсознание. Если русский человек услышит ту самую «идеальную» песню на чужбине, народную, например, «Ах ты, степь широкая»…
– Не подделки эти современные, – хмыкает Игорь.
– … то у него в душе возникнет особе чувство. Идеальная песня – та, которую можно петь без оркестра: без гитары, без баяна – без ничего. Просто затянуть и всё. И эта песня всех, кто её слушает и исполняет, зацепит, как говорится. Она со всеми сотворит чудо. Но это мечта поэта. Кому-то везёт такую написать, кому-то нет. Есть те, кто считает, что несколько моих песен претендуют на такое серьёзное звание. Вряд ли. Но в них есть, конечно, некоторые элементы.
– В своих многочисленных поездках вам удавалось испытать чувство, о котором вы говорите, – трепет от того, что услышали родную песню далеко от дома?
– Мы так далеко не забирались, – смеются музыканты. – В России мы ведь тоже по сути дома. Везде наши люди: в Донецке, Москве, Питере. Приезжаем как домой. Даже воздух тут такой же.
– Если набивается полный зал оперного театра, чтобы послушать классическую музыку, то это уже о многом говорит. Это значит, что для саратовцев важна культурная составляющая. Им интересно что-то ещё, помимо еды, развлечений и «Дома-2». То есть человек не может без этого, он чувствует потребность в том, чтобы развиваться, приобщаться к возвышенному. Какой-то духовный голод существует, и это прекрасно.
– Вы выступаете в самых разных городах. Отличаются ли друг от друга ваши зрители?
– Конечно. Но это неуловимое ощущение, нельзя его внятно сформулировать, назвать одним термином. Одни более отвязные, другие сдержанные. Публика, больше остальных дающая эмоциям волю, – это москвичи. Сам город такой, его атмосфера. Но время меняется, а вместе с ним и зрители. В Донецке и Луганске мы выступали задолго до гражданской войны, десять лет назад. В то время я видел, конечно, совершенно другую реакцию, нежели сейчас. Это был очень сдержанный город. Никто особо не эмоционировал, как говорят актёры. А сейчас там живут другие люди, гиперэмоциональные. Может быть, ребята со мной не согласятся, я всё-таки в Донецке не живу, но наблюдаю все процессы со стороны. А они живут именно там, видят изнанку происходящего.
При общении с журналистами музыканты «Джанго» часто говорят о событиях, происходящих в Украине, у них много так называемых «политических интервью». «Это то, что волнует нас», – в середине нашего общения признался гитарист Игорь Лазарев. Я же снова возвращаю участников группы к теме творчества.
– У вас интересные размышления об идеальной песне. Расскажите немного подробнее.
Активнее всего отвечает лидер «Джанго» Алексей Поддубный, трое музыкантов в основном соглашаются с его словами. У группы есть своя определённая философия, которая прослеживается от интервью к интервью. Алексей, как основатель коллектива, выражает общие мысли.
– Я вам назову несколько идеальных песен. «Священная война» – самый яркий пример. Она выполняла ту роль, которую на неё возложили: поднять дух людей, утвердить их в своей правоте.
– И сейчас выполняет эту функцию, – подключается к разговору Игорь.
– Да. И почему она идеальная? Потому что будет «работать» всегда. Вне времени. Песня была написана давно, но в любой момент она может быть актуальна, – продолжает Алексей.
– Идеальное сочетание музыки и текста? – предполагаю я.
– Эта песня действует уже на генном уровне, она вшита в подсознание. Если русский человек услышит ту самую «идеальную» песню на чужбине, народную, например, «Ах ты, степь широкая»…
– Не подделки эти современные, – хмыкает Игорь.
– … то у него в душе возникнет особе чувство. Идеальная песня – та, которую можно петь без оркестра: без гитары, без баяна – без ничего. Просто затянуть и всё. И эта песня всех, кто её слушает и исполняет, зацепит, как говорится. Она со всеми сотворит чудо. Но это мечта поэта. Кому-то везёт такую написать, кому-то нет. Есть те, кто считает, что несколько моих песен претендуют на такое серьёзное звание. Вряд ли. Но в них есть, конечно, некоторые элементы.
– В своих многочисленных поездках вам удавалось испытать чувство, о котором вы говорите, – трепет от того, что услышали родную песню далеко от дома?
– Мы так далеко не забирались, – смеются музыканты. – В России мы ведь тоже по сути дома. Везде наши люди: в Донецке, Москве, Питере. Приезжаем как домой. Даже воздух тут такой же.
Приоритет душевного
– Вы говорите о «настоящем русском человеке». У него есть определение? Что входит в это понятие?
– Серьёзный вопрос, – вздыхает Алексей. – На него пытались ответить тысячи умнейших голов России. Для этого нужно понять идею, основу, доктрину нашего мира. Все её обрисовывают по-своему. Миллионы разных составляющих. Кто-то строит своё понимание о мире на вере, на идее государства.
– На русской культуре, – добавляет Игорь.
– Да, на литературе, песне. А если всё же попытаться сформулировать это понятие – «русский человек» , то я бы сказал, что это приоритетность душевного над телесным. Там, где западный мир будет говорить «oh, baby», там русский человек скажет «душа моя», «душенька». Это большая разница. Конечно, в последнее время многое меняется. Евроинтеграторы стараются привить нам космополитическую культуру. А она почему-то априори английская или американская. Существует много исполнителей, у которых слова в композициях русские, но ничего нашего в ней толком и нет.
– Мы с вами немного затронули вопрос о литературе. Кто для вас самый русский писатель?
– Много таких. Чехов, например, – сходу отвечает Алексей.
– Гоголь, – уверенно говорит Игорь.
– Я сейчас взялся за Пушкина, – Алексей хочет рассказать о круге своего чтения, но коллега по творчеству добавляет «в тему».
– У меня дочь учится в школе, не любит читать, как все современные дети, – делится Игорь. – Мы включили ей аудиокнигу. Я их терпеть не могу, там часто очень плохо читают. Но вот конкретно эту – «Евгений Онегин» – читал Иннокентий Смоктуновский. Ну куда проще, казалось бы: и в школе вдоль и поперёк изучали, и в университете анализировали. Я же по образованию филолог. Но когда слушаешь, а не читаешь сам, сразу обозначаются новые смыслы. И на события, которые случились в недавнее время, там тоже есть указание.
– Новое поколение, кстати, совсем другое. Возьмём композицию «No, Woman, No Cry». Для меня это песня «Boney M.», а вообще-то её пел Боб Марли, а уж если совсем глубоко копнуть, то это народная песня, даже не его. Я это вот к чему: недавно я услышал эту песню в современной обработке какого-то диджея. То есть для молодёжи – он её автор. Важно докопаться до сути. Важно знать свои корни. Без этого ты будешь висеть в воздухе.
Я пытаюсь вспомнить подобные трансформации русских композиций, но не могу это сделать оперативно, поэтому прошу музыкантов мне помочь.
– Приведите похожий пример с русской песней.
– Песня «Кукушка» ассоциируется у многих с Полиной Гагариной. Она была перезаписана для кинофильма «Битва за Севастополь» . А ведь хитом она стала давно, когда её исполнял Виктор Цой. То, что пел он, было идеальной песней. Переделывать её ты можешь как угодно, но оригинал звучит так и никак иначе. Он сдержанный, без воплей. У Гагариной же перебор. В первом куплетике мы шепчем, тут мы, значит, поддадим, здесь сделаем «ааааааа», тут полезем наверх, а здесь ослабим, – изображает Алексей.
– Культура саундтрека – это коммерция, – разводит руками Игорь.
– Есть ли такой фильм, которому вы сейчас могли бы отдать свою песню в качестве саундтрека?
– «Выживший» с Леонардо ДиКаприо. Отдал бы любую песню, какую возьмут, – смеётся Алексей. – Я люблю индейскую поэзию. Её нужно читать на английском, у нас мало переводов. Но даже те, что есть – удивительные. В этом фильме она есть. Режиссёру удалось уловить этот невероятный дух. Образы, фразы.
На творческих мечтах наше с группой интервью заканчивается. Музыкантам пора на сцену, а нам в зрительный зал, слушать замечательные лирические песни «Босая осень», «Лето на семнадцатой аллее», «Холодная весна», «Снег». После исполнения первой композиции лидер группы Алексей Поддубный сделал небольшую паузу:
– До концерта мы некоторое время беседовали с вашими замечательными журналистами, и вместе с ними коснулись темы Родины. Со временем, под влиянием разных факторов, отношение к ней меняется. Вслушайтесь в слова прозвучавшей песни: «Я не знал, что для меня так мало тепла у огня своих берегов». Здесь же мы чувствуем себя как дома.
Текст Александры Дьяковой,
фото Елены Кривицкой, все фотографии – в альбоме,
оформление Ларисы Ефремычевой.
– Серьёзный вопрос, – вздыхает Алексей. – На него пытались ответить тысячи умнейших голов России. Для этого нужно понять идею, основу, доктрину нашего мира. Все её обрисовывают по-своему. Миллионы разных составляющих. Кто-то строит своё понимание о мире на вере, на идее государства.
– На русской культуре, – добавляет Игорь.
– Да, на литературе, песне. А если всё же попытаться сформулировать это понятие – «русский человек» , то я бы сказал, что это приоритетность душевного над телесным. Там, где западный мир будет говорить «oh, baby», там русский человек скажет «душа моя», «душенька». Это большая разница. Конечно, в последнее время многое меняется. Евроинтеграторы стараются привить нам космополитическую культуру. А она почему-то априори английская или американская. Существует много исполнителей, у которых слова в композициях русские, но ничего нашего в ней толком и нет.
– Мы с вами немного затронули вопрос о литературе. Кто для вас самый русский писатель?
– Много таких. Чехов, например, – сходу отвечает Алексей.
– Гоголь, – уверенно говорит Игорь.
– Я сейчас взялся за Пушкина, – Алексей хочет рассказать о круге своего чтения, но коллега по творчеству добавляет «в тему».
– У меня дочь учится в школе, не любит читать, как все современные дети, – делится Игорь. – Мы включили ей аудиокнигу. Я их терпеть не могу, там часто очень плохо читают. Но вот конкретно эту – «Евгений Онегин» – читал Иннокентий Смоктуновский. Ну куда проще, казалось бы: и в школе вдоль и поперёк изучали, и в университете анализировали. Я же по образованию филолог. Но когда слушаешь, а не читаешь сам, сразу обозначаются новые смыслы. И на события, которые случились в недавнее время, там тоже есть указание.
– Новое поколение, кстати, совсем другое. Возьмём композицию «No, Woman, No Cry». Для меня это песня «Boney M.», а вообще-то её пел Боб Марли, а уж если совсем глубоко копнуть, то это народная песня, даже не его. Я это вот к чему: недавно я услышал эту песню в современной обработке какого-то диджея. То есть для молодёжи – он её автор. Важно докопаться до сути. Важно знать свои корни. Без этого ты будешь висеть в воздухе.
Я пытаюсь вспомнить подобные трансформации русских композиций, но не могу это сделать оперативно, поэтому прошу музыкантов мне помочь.
– Приведите похожий пример с русской песней.
– Песня «Кукушка» ассоциируется у многих с Полиной Гагариной. Она была перезаписана для кинофильма «Битва за Севастополь» . А ведь хитом она стала давно, когда её исполнял Виктор Цой. То, что пел он, было идеальной песней. Переделывать её ты можешь как угодно, но оригинал звучит так и никак иначе. Он сдержанный, без воплей. У Гагариной же перебор. В первом куплетике мы шепчем, тут мы, значит, поддадим, здесь сделаем «ааааааа», тут полезем наверх, а здесь ослабим, – изображает Алексей.
– Культура саундтрека – это коммерция, – разводит руками Игорь.
– Есть ли такой фильм, которому вы сейчас могли бы отдать свою песню в качестве саундтрека?
– «Выживший» с Леонардо ДиКаприо. Отдал бы любую песню, какую возьмут, – смеётся Алексей. – Я люблю индейскую поэзию. Её нужно читать на английском, у нас мало переводов. Но даже те, что есть – удивительные. В этом фильме она есть. Режиссёру удалось уловить этот невероятный дух. Образы, фразы.
На творческих мечтах наше с группой интервью заканчивается. Музыкантам пора на сцену, а нам в зрительный зал, слушать замечательные лирические песни «Босая осень», «Лето на семнадцатой аллее», «Холодная весна», «Снег». После исполнения первой композиции лидер группы Алексей Поддубный сделал небольшую паузу:
– До концерта мы некоторое время беседовали с вашими замечательными журналистами, и вместе с ними коснулись темы Родины. Со временем, под влиянием разных факторов, отношение к ней меняется. Вслушайтесь в слова прозвучавшей песни: «Я не знал, что для меня так мало тепла у огня своих берегов». Здесь же мы чувствуем себя как дома.
Текст Александры Дьяковой,
фото Елены Кривицкой, все фотографии – в альбоме,
оформление Ларисы Ефремычевой.
